ПИЖ №3 (39) 2023 — Содержание
Содержание номера
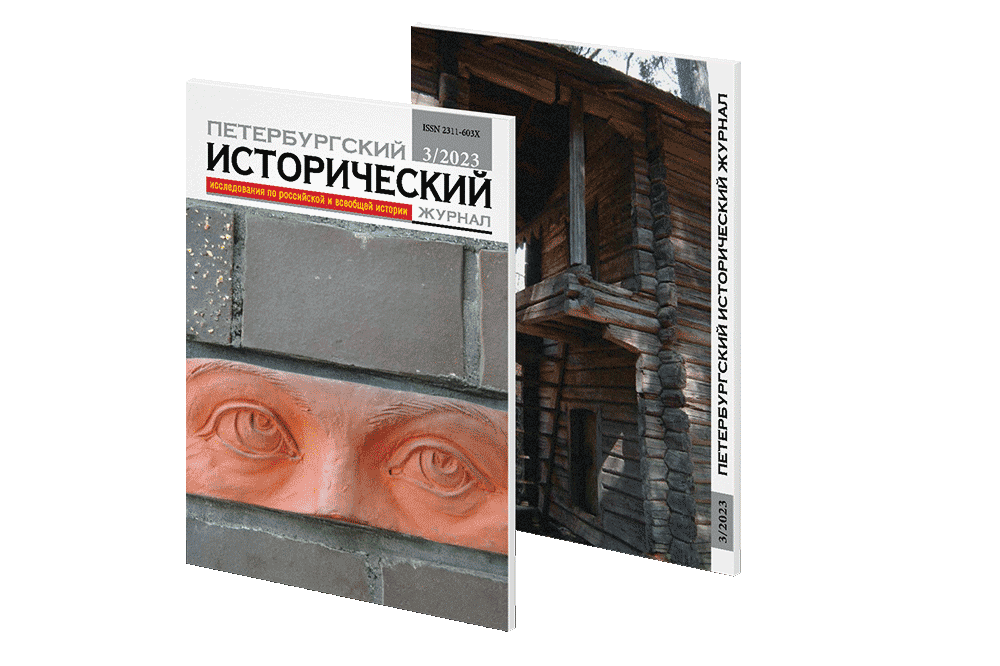
Статья посвящена изучению следственных практик при выявлении и подготовке материалов для судебного разбирательства по делам о преступлениях, совершенных военными чинами Сибирского корпуса во второй половине XVIII в. Механизмы проведения следствия в рамках военной юстиции Российской империи для данного периода до сих пор остаются совершенно неисследованным феноменом. Изучение практик реализации следственных действий в частях регулярной армии позволяет оценить, насколько полно и точно могла быть установлена истина при раскрытии преступлений, совершенных военнослужащими, а также показывает степень эффективности действий, применявшихся военными следователями для сбора информации, необходимой для судебного разбирательства.Основное внимание уделено следствию по делу о растратах коменданта Усть-Каменогорской крепости секунд-майора Веревкина, продолжавшемуся в течение 15 лет. В конечном итоге военному командованию так и не удалось добиться полного осуждения бывшего коменданта и его подчиненных. Причинами такого исхода явились недостаток полномочий следователей, канцелярская волокита, утрата необходимых документов, ложные доносы, подававшиеся подследственными. В других случаях следователям просто не давали возможности допросить кого-либо из подозреваемых. Иногда в ход следствия могли вмешиваться сослуживцы обвиняемых, желая воспрепятствовать осуществлению правосудия. Исследованные казусы наглядно показывают, почему весьма жесткие нормы имперского законодательства XVIII в., действовавшие в военной сфере, не приводили к вынесению соответствующих смертных приговоров и казням обвиняемых. Это дает основания утверждать, что один из ключевых принципов юриспруденции — неотвратимость наказания, в таких условиях не всегда мог воплотиться на практике.
В конце XIX — начале ХХ в. в составе министерств возникают постоянные совещательные учреждения — советы по разным специальным вопросам. Туда входят на равных правах министерские чиновники и представители общественности (по большей части бизнеса и местного хозяйства). Институт этих советов пока практически не изучен. В настоящей статье впервые исследуются причины создания Совета по горнопромышленным делам в 1904 г., его инициаторы, дискуссии о компетенциях и составе Совета, его значение в вопросе взаимодействия власти и российской горнозаводской промышленности. Совет по горнопромышленным делам венчал собою выстроенную систему взаимодействия правительства и горнозаводчиков империи в начале ХХ в. Система съездов, созданная не без участия центральной власти, обеспечивала коммуникацию на местном уровне горного управления, других ведомств и горнозаводских предприятий в пределах одного района. Благодаря Совету горнозаводчики получали голос в учреждении министерского уровня, пусть и совещательном. В условиях политического кризиса начала XX в. в подобных советах с представительскими функциями, но строго контролируемых, в большей степени была заинтересована центральная власть, нежели предприниматели. Поэтому при формально имевшейся инициативе создания Совета по горнопромышленным делам со стороны частных лиц реальным двигателем выступало Министерство земледелия и государственных имуществ.
В публикуемом письме содержится обращение архитектора М. Е. Месмахера в Контору двора великого князя Владимира Александровича в конце 1903 г. по вопросу оплаты своих трудов во дворце Его Императорского Высочества в Санкт-Петербурге за 1886-1893 гг. К письму приложен перечень произведенных Конторой оплат за материалы поставщикам и за работы подрядчикам, составленный зодчим собственноручно. Это письмо является частью объемного дела, освещающего историю обращений сначала самого архитектора, а затем его вдовы В. А. Месмахер за получением недоплаченного гонорара. В деле содержатся многочисленные обращения зодчего как к чиновникам великокняжеской конторы, так и к самому великому князю и даже к императору, направлявшиеся им с 1898 по 1905 г., внутренняя переписка чиновников по этому вопросу, а также немногочисленные ответные послания. После кончины М. Е. Месмахера, так и не получившего никаких денег, за выплатами с 1906 г. вплоть до июня 1912 г. неоднократно обращалась уже его вдова, В. А. Месмахер. Она подавала петиции ко всем возможным адресатам, от канцелярии великой княгини Марии Павловны до самого императора, однако ее письма так не были удостоены ответа ни от одного из адресатов.
В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с ролью крупнейших землевладельцев Российской империи в процессе механизации сельского хозяйства в 1890-1914 гг. Главное внимание уделяется факторам, повлиявшим на масштаб и характер применения сельскохозяйственной техники в крупных помещичьих хозяйствах. На основании различных источников, в том числе неопубликованных, анализируются значительные изменения в техническом оснащении крупнейших помещичьих хозяйств, объем капиталовложений в сельскохозяйственную технику, а также представления самих владельцев и управляющих имениями относительно экономической обоснованности применения машин в сельскохозяйственном производстве. Как представляется, лидирующая роль крупнейших землевладельцев в механизации сельского хозяйства в Российской империи в 1890-1914 гг. была вполне сопоставима с ситуацией в других европейских странах более раннего времени — Англии, Германии, Австро-Венгрии, где также сохранялись обширные земельные владения аристократии и землевладельческие классы играли важную роль в осуществлении аграрных инноваций. В течение всего периода 1890-1914 гг. стоимость и количество сельскохозяйственного оборудования и разнообразных машин в крупнейших помещичьих экономиях Российской империи продолжали расти высокими темпами, как и общие капиталовложения в сельскохозяйственное производство. Максимальная интенсификация в применении сложной сельскохозяйственной техники в крупных помещичьих хозяйствах Российской империи наблюдалась в 1907-1914 гг. Это, на наш взгляд, определялось не только экономической конъюнктурой, общим подъемом сельского хозяйства, но и теми качественными структурными изменениями, которые произошли к этому времени в организации производства в помещичьих экономиях. Концентрация капиталов в отдельных крупных хозяйствах за счет сокращения общей площади земельных владений и частичного ограничения аренды, повсеместный интерес аристократии к увеличению доходности и прибыльности сельскохозяйственного производства неизбежно вели к техническому переоснащению и более широкому применению машин. Наконец, рост капиталовложений в сложную сельскохозяйственную технику в целом отражал общую тенденцию в экономической стратегии значительной части крупных землевладельцев Российской империи накануне 1914 г., взявших курс на расширение и на увеличение эффективности производства в своих имениях.
Лесозаготовки в 1930-е гг. имели особое значение, так как были связаны с оборонной промышленностью и преодолением топливного дефицита. В статье рассматривается важный аспект быта рабочих лесозаготовок. Продажа в торговых точках на местах работ дефицитных промтоваров в годы предвоенных пятилеток оказывала серьезное влияние на производственный процесс. В научной исторической литературе бытовая сфера рабочих лесозаготовок недостаточно изучена. Снабжение непродовольственными промтоварами населения в 1930-е гг. исследуется учеными в рамках истории повседневности, но без дифференциации по отраслям промышленности. Тема статьи рассмотрена на материалах лесозаготовок Среднего Поволжья в контексте общей ситуации по стране. Источниковой базой статьи стали фонды региональных архивохранилищ Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и материалы периодической печати предвоенных пятилеток. В тресте «Средлес» существовала ведомственная система промтоварного снабжения, что позволило создать приемлемую инфраструктуру торговли для лесорубов. Во второй половине 1930-х гг. катастрофический дефицит промтоваров на лесозаготовках этого треста был в основном преодолен. Трест «Куйбышевлес» и Средне-Волжское управление лесоохраны своей ведомственной торговой системы не имели, что привело к нерегулярному снабжению промтоварами его лесозаготовок в годы второй и третьей пятилеток. Серьезной проблемой в 1930-е гг. стали злоупотребления работников торговли, из-за которых многие дефицитные товары не доходили до прилавка. Иногда на лесозаготовки завозились товары, не пользующиеся спросом. Проблемы снабжения лесозаготовок Средне-Волжского края и Куйбышевской области были типичны для многих регионов СССР.
В публикации, основанной на документальных источниках, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые, преследуется цель проанализировать развитие криминологической ситуации в сфере экономической преступности в Дальневосточном регионе в годы Великой Отечественной войны и обобщить исторический опыт противодействия данному виду преступности со стороны территориальных органов НКВД. Исследование опирается на принципы объективности, историзма и системности, автор использовал общенаучный, историко-типологический, историко-сравнительный и историко-системный методы. Делается вывод о том, что дальневосточные органы НКВД смогли добиться к 1944-1945 гг. существенных успехов в противодействии исследуемому виду преступности, внесли весомый вклад в поддержание экономической безопасности тыла в стратегически важном регионе и обеспечение материальной основы победы Советского Союза во Второй мировой войне. Однако в силу ряда объективных причин не удалось полностью нейтрализовать негативное воздействие кризисных явлений военного периода.
Автор статьи впервые предпринимает попытку собрать целостный образ России, сформировавшийся у Поля Камбона — одного из влиятельнейших дипломатов Третьей республики рубежа XIX-XX вв. Реконструкция представлений Камбона о России и русской политике особенно значима с учетом его роли в оформлении в 1904-1907 гг. Тройственной Антанты. Основой для реконструкции этих представлений выступает опубликованная личная переписка П. Камбона, предельная откровенность которой делает ее особенно ценным историческим источником.Дабы объяснить отношение П. Камбона к России, автор описывает мировоззрение, а также внешнеполитические ориентиры французского дипломата. Принимается во внимание французское внутриполитическое измерение проблемы сближения с Россией, в пользу которого высказывались преимущественно правые. Все это объясняет критику П. Камбоном реализации русско-французского союза. В его представлении Франция играла роль младшего партнера в союзе, непрочном в силу самодержавного строя в России, наличия в ней прогерманских сил и расхождения русско-французских интересов в «восточном вопросе». Автор приходит к выводу, что П. Камбон был далек от русофильства, но оставался прагматиком, способным на лояльное сотрудничество с российскими дипломатами. Тем не менее П. Камбон разделял целый ряд предрассудков в отношении союзницы Франции. Он сохранял «ориенталистский» взгляд на Россию и был склонен преувеличивать культурные различия между русскими и французами. Как представляется, в своих воззрениях на Россию П. Камбон был не одинок и выражал настроения определенной части политического истеблишмента Третьей республики.
Статья написана в основном на материалах Центрального архива Военно-морского флота России. Автор сосредоточил внимание на изучении театра военных действий на побережье северной части Корейского полуострова структурами Тихоокеанского флота до вступления СССР в войну с Японией в августе 1945 г. Военно-морская разведка представила ценный материал для понимания военного и экономического значения портов и городов, инфраструктуры и связи двух индустриализованных в 1930-х гг. частей Японской империи на континенте (Маньчжурии и Северной Кореи) с метрополией. Недостатки подготовки и проведения десантной операции подверглись критике, но не снизили значения действий всех частей и соединений флота на заключительном этапе Второй мировой войны, окончание которой стало началом противоречивого периода в истории Кореи. Использование разведывательных и оперативных документов ТОФ, документов столичных ведомств, а также воспоминаний участников десантов в порты Северной Кореи позволяют уточнить характер и детали этого эпизода Второй мировой войны, оказывающего влияние на военно-политическую ситуацию в Северо-Восточной Азии вплоть до сегодняшнего дня.
Статья посвящена планам М. М. Сперанского — Александра I по введению в России начала XIX в. конституции и одновременном сохранении самодержавия. Рассматриваемые в контексте проектов реформирования государственного строя Российской империи в XVIII-XIX вв., эти планы представляют собой оригинальную попытку сочетать европейские конституционные порядки, вызванные к жизни эпохой Просвещения, и неизменное стремление к охранению неограниченной монархии. Особенность проектов Сперанского заключается в попытке найти своеобразную точку равновесия двух этих начал.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности, сборе персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.