ПИЖ №2 (42) 2024 — Содержание
Содержание номера
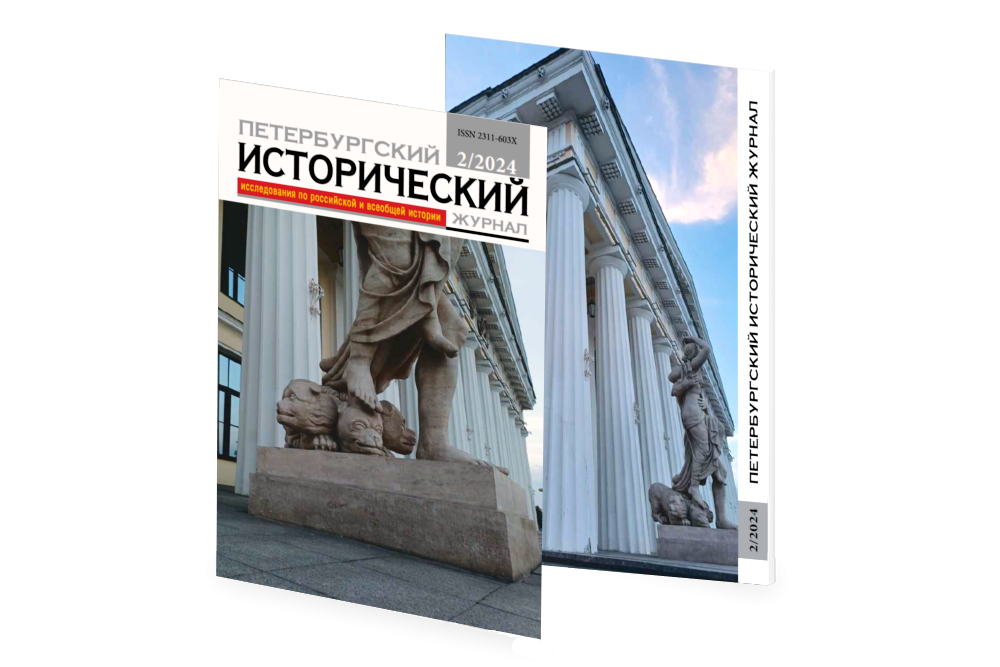
Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. была единственной в новой и новейшей истории войной, которую Россия вела в политической изоляции, будучи без единого союзника в Европе. Это обстоятельство, а не техническое отставание, и было главной причиной ее проигрыша. Опираясь на достижения военного строительства 1830-1840 гг., император Николай I, фельдмаршал И. Ф. Паскевич и генерал А. С. Меншиков реализовали стратегию, четко разделившую все потенциальные — угрожаемые и актуальные театры военных действий на главные и второстепенные, к последним из которых принадлежал и самый кровавый из них — Крымский. Благодаря этому потери в заведомо безнадежной войне им удалось свести к минимуму, и Россия, утратив первенствующее положение в Европе, сохранила себя в качестве Великой державы. По обстоятельствам внутренней политики стратегия императора Николая I и его сподвижников не могла быть верно оценена русским общественным мнением. Историография Крымской войны фактически редуцировала ее масштаб до проблемы Крымской кампании. Эта традиция сохраняется по сей день и нуждается в переоценке.
Исследователи, о которых идет речь в статье, оценивают итоги войны и причины поражения в ней вопреки традиции, сложившейся в отечественной историографии за полтора столетия. Они считают, что степень военной отсталости России от Англии и Франции в области вооружений сильно преувеличена, а ее готовность отразить военную угрозу преуменьшена. Часть этих историков полагает, что проигрыш России в войне был обусловлен изначальной безнадежностью ее стратегического положения, а не являлся следствием военного поражения. Техническая отсталость и слабость военной администрации, по их мнению, не имела на этом фоне принципиального значения: исход борьбы был предрешен прочной политической изоляцией России и географической разбросанностью потенциальных театров военных действий.
В статье впервые в историографии обстоятельно рассматриваются отечественные политические карикатуры Н. А. Степанова, П. М. Боклевского, П. И. Анненского, В. Беляева, В. Невского, Я. Лаппинга и лубочные картинки на тему Крымской войны в качестве инструмента информационной войны середины XIX в. Особое внимание уделено изучению и раскрытию изображаемых сюжетов и пояснительных к ним текстов. Источниковая база исследования является репрезентативной и включает в себя изобразительные материалы, периодическую печать, переписку и архивные источники. Комплексное использование источников позволяет проследить историю создания и выхода отдельных альбомов сатирических листов, а также оценить размах и эффективность ведения информационной войны.В заключение делается вывод, что политическая карикатура — сильное и действенное средство борьбы и пропаганды, неотъемлемый инструмент информационных войн. Сюжетная составляющая карикатур и лубка играла ключевую роль в информационной политике государства и была направлена, с одной стороны, на популяризацию русской армии, а с другой — на дискредитацию врага. Важнейшими задачами государства в условиях войны является пропаганда патриотизма и формирование позитивного общественного мнения в отношении защитников Отечества.
В настоящей статье произведено исследование работы Главного управления цензуры Российской империи в годы Крымской войны 1853-1856 гг. Рассмотрена деятельность института цензуры как инструмента формирования официального нарратива России, трансляция которого велась через печать. На фоне вовлеченности Российской империи в международный конфликт появилась необходимость в конструировании новой информационной повестки, требования к которой постепенно вырабатывались представителями государственной власти и лично Николаем I. Институт цензуры, будучи инструментом проведения государственной политики в области печати, напрямую влиял на содержание авторских произведений, а также участвовал в формировании информационной повестки. Вместе с тем цензурные ведомства и Комитет 2 апреля 1848 г. уделяли внимание уже выпущенным произведениям для выявления в печати источников, не соответствующих официальному нарративу. Для исследования дано обоснование термина «официальный нарратив», применяемого в исследовании, а также сформулированы основные характеристики деятельности института цензуры в России. Выведенные положения применены на массиве дел Главного управления цензуры и Комитета 2 апреля 1848 г., отобранных за период с 1854 по 1856 г. Обращено внимание на порядок работы с поступавшей массой произведений, а также на применимость официальных манифестов и реляций в процессе рассмотрения дел. Вместе с этим отмечен порядок работы и заключения цензоров, по которым можно оценить основные замечания и общее качество поступавших на рассмотрение цензуры произведений. Отдельно в исследовании представлена реакция цензуры на поступавший объем дел, освещавших военные неудачи Русской императорской армии с 1855 г.
В 1856-1857 гг. среди славянофилов и влиятельных сановников Российской империи получили хождение письма и докладные записки, характеризующие греко-болгарский церковный спор и состояние народного просвещения у болгар под турецким владычеством. Статья дает представление о стоявших перед организаторами школьного дела задачах и содержит указания на идейные и историко-культурные предпосылки, положенные в основу просветительского проекта Найдена Герова в контексте условий Парижского трактата.
Типичный взгляд на Крымскую войну состоит в том, что Финляндия была мирной окраиной воюющей империи. Напротив, Финляндия была активно вовлечена в войну, непосредственно на ее самом важном театре военных действий. Это было не Черное, а Балтийское море с находящейся под угрозой столицей империи Санкт-Петербургом. Финны охотно и успешно участвовали в войне. Победа в битве при Халкокари, порте города Коккола, вызвала особенное воодушевление в России и пробудила большую симпатию к финнам. Эта симпатия и сопутствующее ей военное и политическое доверие к финнам проявились в значительном расширении реальной автономии Великого Княжества Финляндского после окончания войны. Однако в начале XX в. началось активное занижение и умаление роли финнов в Крымской войне, прежде всего со стороны правых российских централистов. После обретения Финляндией независимости официальная позиция финского государства стала продолжением их идеологии. Причиной этого была идеология антироссийской и антикоммунистической мысли, в которой не было места общей русско-финской борьбе. Исключением является город Коккола, местная история которого хранит яркую память о битве при Халкокари.
В статье анализируются сущность и значение церковно-политических вопросов во внешней политике России и Франции накануне войны (что нашло отражение в дипломатическом споре двух стран о Святых местах Палестины), а также духовно-религиозная составляющая вооруженного столкновения. Рассмотрены: религиозная подоплека идеологического обоснования войны в России и Франции (в частности, официальная позиция по отношению к войне Русской Православной и Французской Католической Церквей), роль в войне русского духовенства, отношение французского католического духовенства к российским военнопленным и др. Показано, что Восточная война уже многими современниками воспринималась не только как военно-политическое столкновение государств, но и как цивилизационный конфликт России и Западной Европы. Эта точка зрения имеет место и в современной историографии.
Утвердившиеся в литературоведении термины «литературный декабризм» и «декабристская литература» обозначают гражданское направление в русском романтизме 1810-1820-х гг. Помимо собственно литераторов-декабристов важная роль в этом направлении отводится А. С. Пушкину, никогда не состоявшему в тайных обществах. В качестве альтернативы мы рассматриваем случай литератора С. Д. Нечаева. Он был членом декабристского тайного общества Союз благоденствия, но в истории русской литературы остался как автор сентиментальных альбомных стихотворений и нравоучительных афоризмов. Его единственным стихотворением, исполненным подлинно гражданского пафоса, стала «Застольная песнь греков» (1823). Однако и для С. Д. Нечаева членство в тайном обществе не было пустой формальностью. В конце октября 1820 г. он также стал членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. А уже в ноябре С. Д. Нечаев выступил перед любителями российской словесности с речью «О выборе предметов в изящных искусствах вообще». Докладчик пропагандировал идеи и эстетические принципы, которых не придерживался в своем творчестве, но которые были закреплены в уставном документе Союза благоденствия. Так, он отрицал собственную ценность искусства и видел его назначение в служении общему благу, укреплению нравственности и добродетели, воспитанию юношества. В настоящей статье обосновывается предложение рассматривать речь С. Д. Нечаева 1820 г. не как его индивидуальное выступление, а как пропагандистскую акцию Союза благоденствия.
В статье рассматривается история взаимоотношений членов исполкома Петербургского Совета рабочих депутатов 1905 г. Л. Д. Троцкого (1879-1940) и Д. Ф. Сверчкова (1882-1938). На основе архивных документов и опубликованных работ показан их жизненный путь, взаимные контакты в дореволюционный период и отношения в период после революционных событий 1917 г. Автор статьи прослеживает судьбу друга Троцкого, революционера и писателя Дмитрия Сверчкова, известного в 1920-1930-е гг., но «забытого» исследователями и публицистами после расстрела по обвинению в контр революционной деятельности в 1938 г.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности, сборе персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.