ПИЖ №3 (47) 2025 — Содержание
ПИЖ №3 (47) 2025
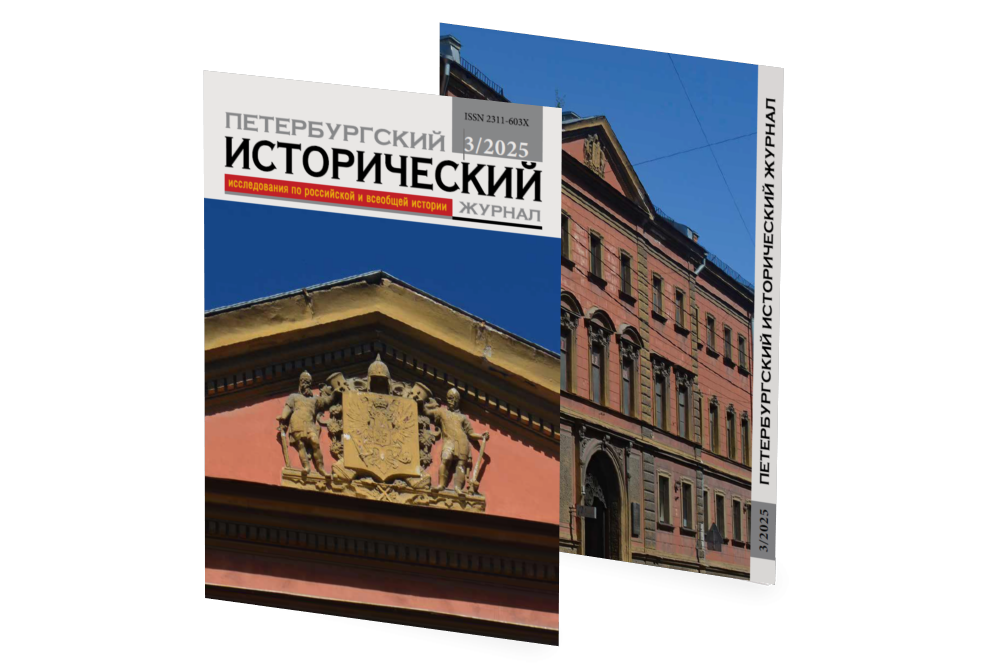
Русско-японская война уже более века притягивает внимание исследователей, изучающих военные, политические, экономические и дипломатические аспекты войны. Однако социальные вопросы ученые затрагивают реже. Проблематика японцев в русском плену в тот период и вовсе стала объектом исследования лишь недавно. Основная цель статьи заключается в раскрытии особенностей организации плена с учетом специфики японских военнопленных. Приведен краткий историографический обзор изучения проблемы японских военнопленных в России, обозначены общие условия их содержания. Основные рассматриваемые в работе проблемы: нормы международного гуманитарного права и статус военнопленного во время Русско-японской войны, а также реальные условия содержания японских военнопленных в России. С привлечением новых исторических источников обозначены проблемы организации плена. Анализируются жалобы японских военнопленных, причины этих жалоб в представлении японцев, реакция российской администрации. Делаются выводы о том, что Российская империя стремилась соблюдать нормы международного права, однако не всегда могла это сделать, во многом по объективным причинам. Для написания статьи привлечены российские архивные документы и сведения из японской историографии.
Неудачная война с Японией и начавшаяся революция поставили российские военные власти и офицерский корпус в тяжелое положение. Вызовом эпохи стала борьба с распространением революционной пропаганды в войсках. Для правительства посрамленная на полях Маньчжурии армия являлась его последним оплотом в борьбе с революцией, однако существовала реальная угроза распространения революционных беспорядков на саму армию. Обстоятельства заставили военное ведомство осознать необходимость борьбы с революционерами их же методами — путем печатной контрпропаганды и устной патриотической агитации. Экспертизой предназначавшейся для войск печатной продукции и отбором полезных с точки зрения властей изданий с 1906 г. занималось специальное подразделение военного ведомства — Комитет по образованию войск при Военном совете. Через Комитет по образованию войск проходили десятки книг, брошюр, а также военных газет и журналов охранительной направленности. В Комитете считали, что официальное правительственное издание не сможет соперничать с революционной и оппозиционной прессой, делая ставку на поддержку частных изданий. Предприимчивые издатели охотно предлагали правительству свою помощь в деле борьбы с революционной пропагандой, надеясь на этом заработать. Но военному ведомству пришлось признать неэффективность этого подхода. Охранительные издания вызывали у солдат гораздо меньший интерес, чем во многом отвечавшая их собственным настроениям антиправительственная агитация.
В статье анализируется влияние противоборства российского и оттоманского военных флотов на ход и исход Первой мировой войны. В фокусе внимания автора — влияние военных действий в Черном море на экономическую и отчасти социально-политическую ситуацию в России и Турции. Сделан вывод о том, что результаты борьбы в Черном море, главным образом действий противоборствовавших флотов на морских коммуникациях, в значительной мере катализировали экономические и политические проблемы в Российской и Османской империях, приведшие, в конечном счете, к их военному поражению и последующему распаду.
Боевые потери армий противоборствующих сторон являются не только показателем понесенных жертв и напряженности боев, но и фактором оценки боевой эффективности войск. В статье на основе документов Государственного военно-исторического архива Болгарии (ДВИА), Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), Австрийского государственного архива (ÖStA), Баварского главного государственного архива (BayHSA), сведений, собранных исследователями разных стран, определяются и уточняются потери армий Болгарии, Румынии, Австро-Венгрии, Германской, Османской и Российской империй в ходе Румынской кампании (сентябрь 1916 — январь 1917 г.). Тяжелые потери, понесенные румынскими войсками в Трансильвании и особенно в Добрудже, стали одним из факторов разгрома румынской армии осенью — зимой 1916 г. и привели к утрате Валахии и Бухареста. Исследователи не едины в оценках размеров понесенных румынской армией потерь (от 300 тыс. до 500 тыс. чел.). Потери русских армий Румынского фронта приводятся впервые (до 262 тыс. чел.). Потери армий стран Четверного союза в Румынской кампании 1916 г. также были велики (167 тыс. чел.), что было связано с тяжестью боев. Особенно велики были потери болгарской армии (до 55 тыс. чел.).
Статья посвящена редкой теме — анализу хозяйственных преступлений на русском театре военных действий в годы Первой мировой войны. В отечественной историографии вопрос о злоупотреблениях чаще рассматривается с точки зрения классовой позиции или политизированного подхода к деятельности общественных организаций — Всероссийских союзов земств и городов. В данной работе, написанной на основе архивных материалов, акцент делается на выявлении экономических преступлений в условиях фронтовой повседневности, их видов, динамики, нарастания объемов хозяйственных потерь, влиянии на социально-политическую ситуацию в стране. Особенное внимание уделяется деятельности общественных организаций и отношении к ним власти и армии. Центральным сюжетом является борьба с экономическими преступлениями со стороны армии, особенно в Петроградском военном округе. Автор приходит к выводу о массе проблем в организации снабжения населения, выявлена противоречивость сосуществования двух начал войны нового типа: регулирования и свободного рынка. Война обнажила недостатки системы снабжения армии с помощью группы лиц (евреи), которым власти не доверяли, и в то же время не могли без них обойтись. Большой вред обороне наносили скрытые махинации, являвшиеся частью повседневности войны: спекуляция, массовая фабрикация документов на имущество. Несостоятельность ведения войны «за деньги» усугублялась отсутствием надежного контроля, действенной правовой базы, столкновением интересов военной и гражданской администрации, а также агентов вольного рынка. Такое сочетание противоречивых факторов вело к большим потерям ресурсов, страданиям миллионов граждан, ущербу для дела обороны, угрозе потери государственности. В этой ситуации спорадические, бессистемные попытки военных деятелей бороться с экономическими преступлениями путем обезвреживания отдельных преступников, даже самого высокого уровня, были обречены на неудачу.
Дела об оскорблениях членов императорской семьи являются ценным источником изучения общественных настроений и формирующихся в них образов власти, позволяют реконструировать портрет среднестатистического оскорбителя, а также демонстрируют парадоксы государственных практик противодействия обсценным высказываниям. Источники показывают, что обсценный политический дискурс периода Русско-японской войны, несмотря на сопоставимое с периодом Первой мировой войны количество дел, менее разнообразен и эмоционален, в нем в меньшей степени распространены инфернальные характеристики членов царской семьи, менее выражены эсхатологические настроения и политические слухи. Автор считает, что борьбу государства с оскорблениями власти нельзя считать успешной — в ряде случаев законодательство и судопроизводственная практика способствовали распространению оскорбительного политического дискурса, создавая соответствующие прецеденты и тем самым усиливая социально-политические конфликты эпохи войн.
В статье рассмотрено, как дискуссии эпохи Первой мировой войны повлияли на распространение понятия «гражданская война» и какое воздействие это оказало на политическую ситуацию. Особое внимание уделено дискуссиям в среде радикальных социалистов. Показано, что сторонники лозунга о перерастании империалистической войны в гражданскую (прежде всего В. И. Ленин и его сторонники) действовали в определенном контексте: они учитывали предшествующий опыт проговаривания гражданской войны и опыт социалистов других стран (прежде всего риторику Карла Либкнехта). На основании рассмотрения взглядов видных большевиков (А. Г. Шляпникова, А. М. Коллонтай, Н. И. Бухарина) показано, что не все члены партии безоговорочно поддержали лозунг Ленина о необходимости гражданской войны, а некоторые видные сторонники лидера большевиков расшифровывали этот лозунг по-разному, обсуждали разные пути его реализации. Дискуссии о способах окончания мировой войны и перспективах революции и гражданской войны были важны в нескольких отношениях. В годы Первой мировой войны складывается репутация большевиков как «партии гражданской войны». Это сыграло существенную роль в различных пропагандистских кампаниях 1917 г., направленных против большевиков, хотя в действительности не все члены партии безоговорочно поддержали лозунг Ленина. Споры о перерастании империалистической войны в гражданскую способствовали культурной подготовке к ситуации войны внутри государства. Понятие «гражданская война» получило новые импульсы для распространения, проговаривание этого понятия в ходе кризисов Первой мировой войны повлияло на радикализацию ситуации. Шедшие в среде социалистов споры способствовали тому, что партийные активисты разного уровня, вне зависимости от того, согласны ли они были с лозунгом о необходимости гражданской войны, размышляли о перспективах такой войны и способствовали разработке языка насилия.
В статье на основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов анализируется не исследованная ранее проблема уклонистов от мобилизации и дезертиров из русской армии в Китае периода Первой мировой войны. Вступление Российской империи в Первую мировую войну вызвало серьезные изменения в жизни государства. Мобилизация в армию огромного числа подданных кардинально повлияла на экономическую, политическую и социальную жизнь империи. Несмотря на патриотический подъем основной массы населения в первые месяцы войны, значительная часть российских подданных не разделяла эти настроения и стремилась избежать отправки на фронт, опасаясь вовлечения в военные действия. Среди уклонистов были представители разных слоев населения и этнических групп. Уклонисты и дезертиры перебирались вглубь страны — в Сибирь, на Дальний Восток, а впоследствии покидали пределы империи. Основным направлением побегов стал Китай, занимавший нейтральную позицию в войне вплоть до 1917 г. В организации побегов за границу уклонистам помогали нижние чины российской полиции и пограничной службы, русское и китайское местное население. Постепенно сложилась сеть подпольных путей миграции уклонистов из России в Китай. Прибыв, как правило по железной дороге, в Китай, беглецы оседали в Харбине, Тяньцзине, Чанчуне, Дальнем, затем получали новые документы, финансовую помощь от сотрудников германских концессий, обосновавшихся в Китае российских подданных, оппозиционно настроенных по отношению к российским властям, а также от различных криминальных элементов. Последние постепенно наладили нелегальный бизнес по продаже поддельных документов. Получив новые документы, уклонисты и дезертиры стремились покинуть Китай и следовали сначала на Филиппинские острова, в Гонконг, а затем, как правило, в США. Некоторые оставались в Китае и поступали в базировавшиеся здесь части американской армии. Проблема русских уклонистов и дезертиров свидетельствует о серьезном кризисе Российской империи в период Первой мировой войны, а также демонстрирует важные нюансы ее отношений с соседними странами Дальневосточного региона.
В фокусе внимания автора — военные атташе японской армии в России во время Первой мировой войны, их действия по сбору и анализу информации, оценки военных возможностей русской армии, и их пребывания в России после Октябрьской революции 1917 г. Японская армия в августе 1914 г. направила военных атташе в союзные страны для сбора информации и изучения опыта войны. В Россию отправились столько же военных атташе, как и в Англию, единственную союзницу Японии. Россия принимала и дислоцировала японских офицеров во фронтовых командованиях, и даже специально разрешила прикомандировать их к Ставке. Кроме военных атташе в России находились японские корреспонденты и студенты. Но их количество было меньше, чем в Англии и Франции. Япония также отправила группу военных атташе в качестве инструкторов для подготовки расчетов горной и тяжелой артиллерии (японские орудия были направлены в Россию в начале 1915 г.). Это были единственные военные, направленные Японией для поддержки в ходе боевых действий. Японские военные атташе вначале высоко оценили отношение народа и русской армии к войне. Поражения России японские военные атташе объясняли низким уровнем народного образования, неспособностью офицерского состава, недостатком оружия, боеприпасов и состоянием железных дорог. Некоторые атташе ожидали улучшения положения после падения монархии в результате Февральской революции. Напротив, причину фактического развала русской армии в результате хаоса, вызванного Октябрьской революцией, они видели в расширении либерализма и социализма, неразумности солдата. Другие военные атташе обращали внимание на лучшую подготовку немецкой армии, настаивали на необходимости для Японии следовать ее примеру. После Октябрьской революции и сепаратного мира новой России с Германией японская армия пыталась оставить часть военных атташе для сбора информации. Все же в январе 1918 г. почти все они покинули Россию из-за углубления внутренних беспорядков и трудности связей с Японией. Среди эвакуированных по КВЖД в Харбин были те, кто там готовил другую «войну империи», т. е. интервенцию («Сибирский поход»).
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности, сборе персональных данных и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.